Василий Геронимус
Литературный критик, филолог. Член Российского союза профессиональных литераторов (РСПЛ), кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ГИЛМЗ (Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина).
Отталкивая мнимости
(О книге: Александр Чанцев. Жёлтый ангус. – М.: ArsisBooks, 2018)
I.
«Географические омонимы»
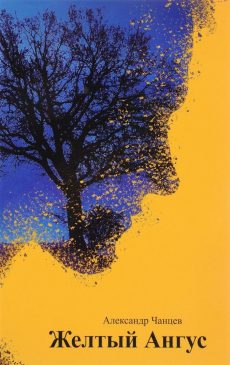 Книга Александра Чанцева «Жёлтый Ангус» состоит из двух частей (первая посвящена Японии, вторая России) – и они побуждают задуматься о двух ментальных полюсах страдающего человечества. Европейская культура восходит, в конечном счёте, к античности. Достаточно упомянуть о том, что сиятельный Рим – до сих пор один из культурных центров мира, а латиница, которой пользуется Европа и Америка, – есть языковое наследие римской античности, пришедшей на смену античности греческой. (Не говорим уже о том, что по мирам, по эпохам русской и европейской поэзии буквально разгуливают античные боги).
Книга Александра Чанцева «Жёлтый Ангус» состоит из двух частей (первая посвящена Японии, вторая России) – и они побуждают задуматься о двух ментальных полюсах страдающего человечества. Европейская культура восходит, в конечном счёте, к античности. Достаточно упомянуть о том, что сиятельный Рим – до сих пор один из культурных центров мира, а латиница, которой пользуется Европа и Америка, – есть языковое наследие римской античности, пришедшей на смену античности греческой. (Не говорим уже о том, что по мирам, по эпохам русской и европейской поэзии буквально разгуливают античные боги).
После того, как в мир пришёл Свет христианства, сущности христианства остались сакральными и непроизносимыми, хотя и значительно повлияли на светское искусство, а из эстетической сферы так и не исчезли античные – исходно языческие – рудименты. (Просто они из предмета поклонения перешли в разряд эстетической условности – можно ли поклоняться эстетической условности?). Тем не менее, мы имеем дело с единым антично-европейским корпусом явлений культуры.
А потому – сколько бы лорд Байрон ни пытался в своих поэмах обратить просвещённых читателей к далёким от Европы экзотическим народностям, едва ли поэмы Байрона – факт искусства – способны перечеркнуть данности истории мировой культуры. Очевидно, что на Востоке языковое мышление остаётся совершенно иным, нежели в Европе – и, в сущности, любое обращение к Востоку посредством латиницы – есть не более чем литературная игра и стилизация. И хотя Россия, как известно из «Скифов» Блока, – страна пограничная между Европой и далёкими от неё народностями, даже в России со времён петровской европеизации, кардинально повлиявшей на язык, на характер употребления кириллицы, едва ли вообще воспроизводим ментальный и культурный опыт Востока.
Тем примечательней, тем невероятней случаи, когда между двумя взаимно полярными мирами возникает диалог или даже просматривается взаимная общность.
Александр Чанцев нащупывает точки пересечения, тропинки и мостики между Россией – окраиной Европы и таинственным Востоком (прилагательное «таинственный» в данном случае не часть устоявшегося клише, а буквальное указание на то, что такое Восток). Почему же Чанцев в качестве ментальной спутницы России избирает, например, Японию, а не Индию или Китай? (Известно, например, что отечественный классик минувшего века, Горький, живо интересовался Китаем). И всё же у Чанцева обыгрывается та уже почти ставшая «общим местом» параллель фашизма со сталинизмом, которой фактически вторит Япония с её особой жестокостью (например, именно в Японии существуют разработанные правила совершения харакири, т.е. жестокого изощрённого самоубийства, которое иногда назначается провинившемуся в качестве казни). Приходится ли удивляться более чем двусмысленной роли Японии во Второй мировой войне? недоумевать по поводу существования японских фашистов? Россия и Япония – страны по-разному жёсткие, более того, жестокие (хотя и Китай, конечно, бывал разным), кроме того, целые культуры (а не только отдельно взятые авторские тексты) России и Японии по-разному переводимы на язык европейской ментальности. Японский ум таков, что он способен проникнуть в европейский мир (достаточно вспомнить Кобо Абэ или Акутагаву), а русский мир таков, что он попросту примыкает, более того, относится к миру европейскому. Просто русский текст (если такой оборот употребителен в синтетическом смысле) являет собой особую версию европейского текста (чего, конечно, не сказать о китайских или буддистских памятниках письменности – о непостижимых феноменах Индии).
И всё же, как это прекрасно осознаёт сам Чанцев, играя контрастными полюсами земного шара, сходство России и Японии обманчиво (по многим причинам). Прежде всего, Россия как одна из стран Европы, как этакий очень странный (и маргинальный) участок Европы, заимствует европейскую динамику (в России она иногда реализуется как сумасшедшая внезапность исторических катаклизмов), а Япония, при всех своих ментальных и языковых «заигрываниях» с Европой, хранит восточную статику. (Например, традиция харакири статична – она ведёт к остановке движения). Любопытно, что в России (при всех азиатских жестокостях) нет такого специфически изощрённого (и, хочется добавить, ритуализированного) вида казни.
Однако художественная литература – не то же, что этнографическое исследование, и Чанцев, словами Пастернака, разгуливая поверх барьеров, подчас превращает метонимию в метафору. Именно в своём глубинном несходстве с Востоком Россия всё-таки может становиться у Чанцева метафорой Японии, а Япония – метафорой России. Не надо объяснять, что метафора – спутница (иногда иллюзорного) сходства явлений – не означает их взаимного тождества, так что у Чанцева-писателя (а не только учёного- япониста, каковым он параллельно является) есть повод играть как рискованными географическими параллелями, так и очевидными географическими контрастами.
II.
«Время цикад». Япония у Чанцева
В книге Чанцева возникает тончайшая космическая вибрация между двумя странами, система их метафизических взаимоотношений, состоящая из притяжений и отталкиваний. Так, Япония у Чанцева подчас латентно стилизована под Россию, т.е. в японской обстановке латентно являются русские архетипы или, по крайней мере, архетипы, в России узнаваемые.
Так, в рассказе «090 – 8761 – 0241» описано то, как главный герой совершает половой акт с молодой кореянкой в экстремальной обстановке, попросту он (не располагая лишним временем) затаскивает её в тесную неудобную кабинку мужского туалета. Но художественно принципиально не это, впрочем, совершенно аномальное обстоятельство, принципиально то, что герой попадает в своего рода «цивилизационные джунгли», где ему грозит опасность (от диких зверей и др.) и где он вынужден выживать, в свою очередь, прибегая к жестокостям (или, во всяком случае, к угловатым шагам, к аномальным чрезвычайностям). Понятно, что в обстановке тропического леса или кишащей змеями пустыни (где человеку поминутно грозит опасность и где перед ним стоит вопрос о физическом выживании) вопросы о приличиях стоят совсем иначе, нежели в комфортной обстановке благоустроенного жилья. (И едва ли вопросы этикета или приличий вообще возникают вне цивилизованных условий). Однако рассказ свидетельствует о том, что «в сущности ничего не изменилось» и после ГУЛАГа и Освенцима человечество перешло в некую пугающе первобытную фазу, когда утлое существование индивида окружено враждебным и непонятным миром, взывающим не к адаптации, а к скоропалительному сопротивлению. Причём роль диких зверей, стихийных бедствий и т.п. в данном контексте успешно выполняют машины и другие явления цивилизации, от которых современному человеку приходится попросту спасаться.
Понятно, что дикость и агрессивность японской «среды обитания» в рассказе «090 – 8761 – 0241» вполне переводима на язык отечественных реалий, на язык жизненной (не жизненной?) обстановки, где буквально (!) пустыри, свалки и другие заброшенные места соседствуют с компьютерами в офисах и вообще с привозными плодами цивилизации. И по совокупности данных создаётся опасная для жизни, враждебная человеку «среда обитания».
Её синтетическая картина содержится в рассказе «Магазин (hardcore mix)». Чанцев пишет (с. 104): «Дети мучают собак, ящериц, птиц. Эта жестокость к миру – не просто способ познать его, но предчувствие будущей боли, желание заранее отомстить за неё. Однако потом вдруг жестокость кончается, иссякает, как молочные зубы, – и начинается боль. Человек пытается быть хорошим, любить других, родителей и друзей, честно или притворяясь при этом, играя, чтобы понравиться, вызвать любовь и не чувствовать боли. То есть любовь – не более чем обман, лекарство от боли, а боль – это и есть жизнь. Ради которой надо постоянно, как работать в тухлой конторе, обманывать.
И когда-то человеку надоедает это бегство. Он прекращает этот марафон. Он снова хочет стать ребёнком и осознанно причинять боль. Тогда он останавливается, уходит от тех, с кем он играл в любовь, и – видимо, возвращается к себе, но точно не сказать, – люди тогда перестают быть словоохотливыми».
Итак, к читателю обращён месседж: или мир тебя уничтожит, или ты вынужден вести жестокую изнурительную борьбу за выживание. «Tertium non datur». Вернее, третье дано, однако это – отчаянное бегство от мира, путь в безумие, в самоизоляцию…
Именно таким путём идёт герой рассказа «Магазин», по сути дела вступая в инцестуальные отношения с сестрой, которые в данном случае являются метафорой сумасшедшего изоляционизма: герой уходит от мира к сестре, к единокровному существу, т.е. почти к себе. Вот почему в рассказе повышенное значение приобретает магазин: созерцание витрин магазина для героя – ситуация, когда внешний мир адресует к нему минимум требований и когда герой предоставлен сам себе…
«Мимо скучных отделов приправ и печений, долой их! Другое дело сырно-колбасное разнообразие форм и цвета, рядом с которым плавное скольжение его тележки почти прекратилось. Раблезианское, возрожденческое и бальзаковское изобилие недаром привлекает эстетов, раза в три превзошедших первоначальный объём своего тела», – пишет Чанцев (с. 86). Последнее – частное обстоятельство, а принципиально то, что созерцание прилавков для героя – это форма одиночества и своего рода личностного творчества (которое остаётся в тайне от окружающих). Однако крайнее отчуждение героя от мира, его замыкание на себе и на своих впечатлениях кончается смертью – если не в прямом, то в переносном смысле.
III.
«Гумусовый горизонт». Россия у Чанцева
Россию (вслед за Японией) Чанцев рисует как страшную и к тому же абсурдную страну, однако же во второй части книги – в «Горизонте», посвящённом России, являются тёплые тона и некоторые даже признаки сентиментальности (впрочем, не вкладываем в это слово негативного смысла).
Рассказ «Во дворе» носит характер очерка, который посвящён колоритным алкашам и вообще эстетически интересным маргиналам. Будучи заведомо неприкаянными, они образуют своего рода клановую структуру. Как бы подытоживая свои наблюдения над целой семьёй (или, во всяком случае, слаженной группой) алкоголиков, которые привыкли собираться в одном и том же месте, Чанцев замечает (с. 115): «Алкоголики проявили себя опять неожиданно – вытащили раскладывающиеся кресла и пикникуют на них! Их тихое, но постоянное пьянство для меня всё же загадка. Они не переходят черту, что-то же их останавливает. И состав у них часто такой – семейный, соседи, от дочери главной алкоголички, хозяйки собаки, с ребёнком, до старух. Взрослые мужики среди них.
Жара. Бог».
Рассказ содержит чрезвычайно изящную речевую фигуру религиозной этики: если люди заняты намеренным ничегонеделанием, но при этом не переходят некой таинственной границы, после которой они окончательно скатываются неведомо куда, они всё ещё подвержены действию благого Промысла (разумеется, в религиозном, а не в бытовом значении слова).
Колоритные алкаши – это, конечно же, отечественный архетип, однако у Александра Чанцева его эстетически ненавязчиво сопровождает некоторая восточная созерцательность.
В рассказе «Лёгкий Фродо» лёгкий человек, который именно в силу своей лирической прозрачности уходит преждевременно рано (как выясняется, смерть насильственна), описан не только приёмами сюжета, но и приёмами облегчённого синтаксиса (откуда изъято и так понятное и подразумеваемое); о герое сообщается (с. 187): «Такой тяжёлый, не его напиток [водка – В.Г.], думаю вот сейчас, но и он тогда будто объяснил через пару фраз – допить не надеется один, да, вот так получилось, что один пришел и купил по дороге, всего за 300 взял, спрячет здесь, после концерта допьет, а возьмет кто, так и».
Герой рассказа, Фродо (на самом деле, как выясняется из рассказа, его зовут Саша), до такой степени лирически прозрачен, что через него как бы просвечивает эпоха (приблизительно нулевые годы), Саша человек почти бестелесный. Сам он готов не быть, готов вот-вот исчезнуть (и необъяснимо исчезает) вместе со своей эпохой, оставив, однако, в памяти рассказчика яркий и неповторимый след именно как неповторимый человек.
Саша или Фродо – натура артистическая, в обрисовке Фродо у Чанцева скрытая, но узнаваемая параллель Саши (или Фродо) с Моцартом (как мы знаем, Моцарта тоже убили) дополнена своего рода восточным минимализмом. Фродо (или Саша) был – и упорхнул…
В рассказе «У тишины, или СССР 2013» присутствует элегическая нота, которая… связывается не столько с советским политическим строем, сколько с опытом частной жизни в советский период. Этот опыт, данный не без иронии, тем не менее, выступает позитивно, поскольку связывается с лучшими годами героя-рассказчика, т.е. по существу с элегическим временем.
Однако же апология СССР (не в качестве общественного строя, а в качестве особой среды обитания) является в рассказе настолько же сдержанной, насколько и парадоксальной – т.е. является всё-таки вопреки, а не благодаря наглядной очевидности.
В частности, автор пишет о букинистическом магазине тех лет. Именно потому, что он был отчасти запретным (его не закрывали, но и не одобряли), он – заветный и памятный книжный магазин – был тем особым анклавом, в котором сохранялись классические ценности и вечные смыслы (на фоне всё-таки диком и деструктивном). Однако сейчас, в эпоху глобализма, нет и таких анклавов, таких уютных магазинчиков, где можно было почувствовать глоток воздуха.
Причём его дефицит сегодня связан как раз с отсутствием явных гонений на частную деятельность (например, на книготорговлю). Нет гонений, нет и сладостного анклава, где можно укрыться от бурь и завихрений эпохи – вот несколько парадоксальная многоступенчатая логика автора.
Она ведёт в круг элегии, где в меру актуальны географические границы, и тогда Россия выступает в общечеловеческом разрезе.
IV.
Элегическое время

Элегическое начало у Чанцева (как и у Бунина) принципиально фрагментарно (яркие жизненные впечатления, светлые, но, увы, мимолётные эпизоды жизни) и в то же время отодвинуто далеко-далеко в прошлое – в некий подразумеваемый мифопоэтический золотой век.
Так, элегическими лейтмотивами у Чанцева являются детство и дача. Чанцев пишет (с. 210): «Ребёнок плачет, не понимая ещё, что он будет счастлив только сейчас». Помимо констатации психического факта обращают на себя два измерения элегизма у Чанцева: мгновенность счастья и в то же время его присутствие в далёком – почти предвечном – прошлом.
Его крайняя давность, контрастно измеряемая настоящим моментом времени, связывает счастливые моменты жизни у Чанцева с длительностью человеческой жизни, вообще с идеей времени (колоссальные расстояния во времени между счастливым прошлым и настоящим). Вот откуда грустная умудрённость, которая у Чанцева подчас сопровождает прекрасное (с. 156): «[…] нет ничего лучше подмосковной дачи осенью, и вряд ли уже будет». Этому авторскому высказыванью параллельна его же сакраментальная максима (с. 207): «На даче всё заросло, как в Эдеме».
Едва ли будет натяжкой утверждать, что Эдем у Чанцева ассоциативно связывается с вечным детством, которое, однако, в эмпирической практике локализовано (и как бы замкнуто) в нескольких счастливых мгновениях, от которых нередко остаются лишь воспоминания…
Тоска по Эдему, тоска по детству, тоска по даче – всё это может быть выражено ещё одной максимой Александра Чанцева (с. 194): «Быть готовым каждый миг всё потерять. Потому что каждый миг всё теряешь». В самом деле, если каждый миг исключительно ценен и неповторим, то… каждый миг, пробегая, неизбежно сопровождается элегической нотой.
В этой книге реализуется такой тип взаимоотношений частного человека и окружающего мира, который описан у Бродского:
Мы будем жить с тобой на берегу,
отгородившись высоченной дамбой
от континента в небольшом кругу,
сооруженном самодельной лампой.
Лампе, символу частной жизни у поэта Бродского, у прозаика Чанцева пунктирно соответствуют – детство, дача, сад. У Чанцева, как у Бродского, они противостоят пугающей огромности мира с его бессмысленной жестокостью (или, во всяком случае, с его враждебностью частному бытию).
И всё же Чанцев не повторяет Бродского, поскольку, в отличие от Бродского, работает в поэтике прозы и повествует не о некоем континенте в его поэтической собирательности, а о странах по сути своей фантастических – о Японии и России.
V.
Искусство парадокса
Нонконформизм, который заметно сквозит и ощущается в прозе Чанцева, сопровождается парадоксом – врагом стереотипа…
Так, Чанцев пишет (с. 161): «Наделить слова смыслом – надеть на них защитную маску лжи».
Апология бессмысленности? Да нет, конечно! И всё-таки живые, сказанные от сердца слова часто противятся смыслу – другу логики.
Слова не существуют вне ситуативного контекста, вне конкретного жизненного фона, который влияет не столько на смысл – меру отвлечённую, – сколько на речевую природу и семантику слов. А смысл как таковой нередко выступает как источник умозрительных конструктов, слову навязанных и жизни чуждых.
«Логика уязвима, а безумие никогда» – пишет Чанцев (с. 204). В самом деле, человек, который будет убеждённо скандировать, что дважды два четыре, скорее всего, произведёт аномальное впечатление, хотя его нехитрый тезис невозможно логически оспорить. Скажут: помимо того, что дважды два есть четыре, существуют и более сложные вычисления. Однако сколь бы иные вычисления ни были сложны, пока они остаются в пределах логики, в своём минимальном ядре они будут предполагать, что дважды два четыре. А этот нехитрый тезис (логический кирпичик, из которого складываются логические построения разной степени сложности) на самом деле очень уязвим. И, напротив, за порогом логики, там, где обитают личностные аксиомы и там, где начинается безумие, возрастает своего рода неопровержимость, качество, присущее свободной стихии…
Принципиальная несводимость мира к логическому смыслу, более того, условность и относительность последнего засвидетельствована также в следующем наблюдении Александра Чанцева (с. 216): «” Фактическое одиночество с другой стороны снимается не тем, что ”рядом” со мной случился второй экземпляр человека или возможно десять таких”.
Интереснее гораздо не что имел в виду Хайдеггер, а посмеивался ли в бородку Бибихин, переводя его».
Ещё бы! Бибихин – конкретная личность, к тому же обитавшая в стране, где идеи Хайдеггера по-особому актуализируются (на конкретной почве и на конкретном материале). А построения Хайдеггера – пусть и сколь угодно остроумные, но конструкты, порождения смысла. Умственные абстракции.
Не претендуя на исчерпанность, укажем на ещё один яркий парадокс Чанцева (с. 157). «”Свобода в служении”, а счастье в рабстве». В самом деле, если служение полагает цель, смысл, освобождает от всего ненужного и постороннего, то рабство – крайняя степень служения – по-своему плодотворно. Во-первых, оно снимает с человека ответственность за то, что он делает (опять-таки, высвобождает силы души, при нагрузках на тело), а во-вторых, рабство всё-таки оставляет «зазор» между социальной ролью человека и его истинным лицом. Например, институт рабства едва может кому-либо запретить созерцать небо и солнце, а находиться под солнцем – это уже счастье; причём свобода созерцать небо и всё, что на нём, контрастно становится всё ощутимей на фоне рабства.
Так устроен человек – побуждает думать Чанцев-парадоксалист.
VI.
Некоторые проблемы прозы Чанцева
Стиль «заметок на полях», иногда узнаваемо напоминающий почерк философских заметок Василия Розанова, наблюдаемый у Чанцева, едва ли взывает рецензента к эстетическим оценкам в традиционном смысле этого слова. Во-первых, сама проза Чанцева нередко выстраивается как заметки по поводу текста, не обязательно вербального. А заметки по поводу заметок – есть уже нечто избыточное. Во-вторых, Чанцеву с его восточными склонностями подчас присущ намеренный отказ от высказывания (как своего рода художественный акт). И тогда критик или читатель, который (в буквальном смысле) начнёт придираться к словам, попадёт в некоторую логическую ловушку, ибо весь Чанцев в недосказанностях и неуловимых вибрациях смысла.
Но при всём нежелании подключать к делу бинарную схему «хорошо» / «плохо» (а кто знает, что хорошо, что плохо?), некоторые проблемы прозы Чанцева всё-таки будет естественно обозначить.
Во-первых, выражаясь языком Розанова, в книге Чанцева угадывается проблема движения. Не говорим, что движение это всегда хорошо: может быть, напротив, движение суетно, а статика благородна. Лишь констатируем, что такие универсалии, как дача или детство, у Чанцева в принципе не предполагают развития (сюжетного или смыслового). Оно ставится под сомнение там, где вообще используется ориентальный дискурс, а не только там, где упоминаются статические (или локализованные в далёком прошлом) явления.
Сюжетная статика, личностная статика, безусловно, имеет право на существование и может быть даже прекрасной. Достаточно вспомнить, например, полулегендарную лень пушкинского Дельвига (пример благородной апатии). Однако у Чанцева статика вступает в некоторое противоречие с тенденцией автора эпатировать читателя нестандартными решениями. Эпатаж едва ли может быть абсолютно статичным.
Впрочем, современный арт-критик Анатолий Осмоловский (в личной беседе с автором рецензии, состоявшейся несколько лет назад) говорил о семиотической возможности агрессивных констатаций. Что ж, едва ли Чанцеву можно отказать в наличии у него агрессивных констатаций («счастье в рабстве» и пр.). А значит, минимализм поэтики Чанцева может быть убедительным инструментом эпатажа.
Во-вторых, в прозе Чанцева обозначается проблема реальности. Что такое, например, инцест в рассказе «Магазин» – это метафора катастрофического героя из мира или всё-таки аномалия физиологически буквальна? Из-за того, что изображаемый мир у Чанцева – это в известной степени изображаемый текст, в «Жёлтом Ангусе» иногда стирается или не просматривается окончательно граница между реальностью и условностью.
Впрочем, обретение реальности в мире фикций – одна из высших целей постмодернизма. Чанцев ведёт поиск истинной реальности, отталкивая мнимости.



